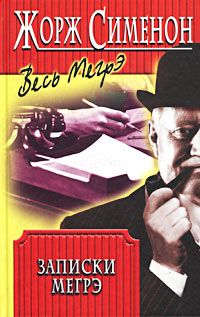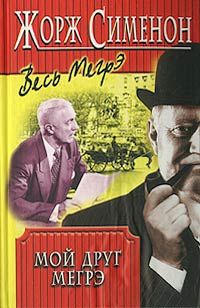Жорж Клотц - Доллары за убийство Долли [Сборник]
Каким-то чудом самовнушения он убедил себя, что он жертва, орудие кого-то другого, хотя этим другим в действительности был не кто иной, как он сам. С самого начала у него был один-единственный враг: его собственное воображение. Он стал рабом своей болезненной слабости, и это последнее усилие, эта отчаянная попытка вырваться из власти того, что он считал дьявольским наваждением, привела его к убеждению, на этот раз неоспоримому, что только тайная сила, сверхъестественная власть, управляющая им, могут заставить его принять какое-нибудь решение!
Самые несчастные сумасшедшие — это те, которые после припадка настолько приходят в себя, что понимают свое положение и со страхом ждут наступления нового припадка. Что может быть ужаснее и мучительнее мысли:
«Сейчас мой рассудок помутится, и, может быть, тогда какие-то страшные инстинкты превратят меня в чудовище… и, за исключением той минуты, когда моя рука будет наносить удар, я не перестану понимать, в какую ужасную пропасть толкает меня судьба!»
Подобно этим сумасшедшим, Кош был уверен, что он не может больше уйти из власти таинственных сил. Как только он хотел начать признание, мысли останавливались в его мозгу, как иногда слова останавливаются в горле в минуту слишком сильного волнения. Он видел перед глазами, он мысленно читал слова, которые нужно было бы сказать, спасительные слова, которые положили бы конец ужасному кошмару, но произнести их он уже не мог. А между тем, оставшись один, бросившись на свою постель, закрыв лицо руками, он повторял их:
— В час, когда было совершено преступление, я находился у моего друга Лёду, и только после того, как я вышел от него, мне пришла в голову мысль разыграть эту злосчастную комедию…
Повторяя себе эти слова, он ясно слышал малейшие оттенки своего голоса. Но стоило ему очутиться в чьем-либо присутствии, как его губы отказывались произнести слова, вертевшиеся в его голове, и он чувствовал, что воля его бессильна.
Вот в каком состоянии духа Кош предстал пред уголовным судом.
В продолжение трех месяцев это таинственное дело волновало весь Париж, и Кош успел приобрести и убежденных сторонников, и ярых противников.
Так как следствие не могло установить мотивов преступления, то одни из его противников считали его сумасшедшим, а другие — обыкновенным, заурядным убийцей. Все психиатры Парижа были последовательно вызваны на консультацию, но ни один не решился высказать категорично своего мнения. Сторонники его говорили противникам:
— Вспомните дело Лесюрга, курьера из Лиона!
В день открытия суда и начала прений в зале царило необычайное оживление. Многие пришли туда как на спектакль, не только посмотреть, но и себя показать. Большая часть дам нарядилась для этого случая в новые туалеты. В местах, отведенных для публики, на скамьях адвокатов задыхались от жары и тесноты, и, чтобы удовлетворить многочисленные просьбы, председатель приказал даже поставить три ряда стульев в своем возвышении. В душной атмосфере зала носился запах сильных раздражающих духов и разгоряченных тел. Резкий свет, падавший из высоких окон, бросал яркие пятна на лица присутствующих. И сдержанный шепот, раздававшийся из этой толпы, вскоре перешел в гул, прерываемый только плохо сдержанным смехом, восклицаниями, приветствиями.
Секретарь провозгласил:
— Суд идет!
Послышались шум отодвигаемых стульев, топот ног, звучали еще несколько обрывков фраз, начатых громко, доконченных почти шепотом и скороговоркой, первый кашель, несколько восклицаний: «тише, тише», а затем водворилось глубокое и торжественное молчание. Председатель приказал ввести обвиняемого; тогда наступила такая давка, что послышались крики и одна молодая женщина, взобравшаяся на барьер, потеряла равновесие и упала.
Онисим Кош вошел… Он был страшно бледен, но держал себя спокойно и просто. Когда дверь перед ним отворилась, он в последний раз сказал себе:
— Я буду говорить, я хочу говорить!
Он пробежал глазами по толпе и не встретил ни одного дружеского лица; во всех устремленных на него взорах он прочитал только жестокое любопытство, нездоровое любопытство людей, пришедших сюда, чтобы видеть, чтобы слышать, как мучают человека, как они идут в зверинец в надежде, что звери разорвут на их глазах своего укротителя. Но он не почувствовал ни возмущения, ни ненависти.
Наступает момент, когда нравственные мучения и физическая усталость так велики, что человек как бы утрачивает силу страдать. Каждое существо имеет способность ощущать боль только до известной степени; когда эта боль перешла за крайний предел, наступает бесчувственность. Кош подумал, что дошел до этого предела, и почти обрадовался этому. Если бы в тот вечер, когда он сообщил по телефону «Солнцу» свою великую новость, кто-нибудь сказал ему: «Вот какое любопытство вы возбудите!», он встрепенулся бы от радости. Теперь он испытывал только вместе с беспредельной усталостью какое-то отупение, из которого ничто не могло вывести его. Он чувствовал, что над ним тяготеет судьба, что час возмущения прошел; ему оставалось только смириться и ждать.
Дав показания ясным и твердым голосом относительно своего возраста и гражданского состояния, он сел в ожидании чтения обвинительного акта. Этот акт, с нагроможденными против него уликами, казался ему страшнее, чем самый страшный допрос. По мере того как выяснялись обвинения, он понимал, что убеждение следователя составлено непоколебимо. Несмотря на это, он думал про себя:
«Если я захочу говорить, то я опровергну все их доводы. Но смогу ли я говорить?..»
Допрос прошел довольно бледно; все надеялись на сенсационные показания, так как некоторые газеты утверждали, из верных источников, что обвиняемый ждал суда, чтобы что-то сказать. Но на все вопросы Кош неизменно отвечал:
— Не знаю, не понимаю, я невиновен…
Когда председатель заметил ему, что такая система защиты представляет большие опасности, он только пожал плечами и прошептал:
— Что делать, господин председатель, я ничего другого сказать вам не могу…
И снова погрузился в свое безучастное спокойствие. Только когда начался вызов свидетелей, он как бы немного вышел из оцепенения, его до тех пор равнодушный взгляд сделался более ясным, и, опершись локтями на колени и положив подбородок на руки, он начал слушать.
Первым был вызван Авио, секретарь редакции «Солнца», который рассказал, каким образом Кош покинул редакцию, после того как взял на несколько часов расследование дела в свои руки. На вопрос председателя: не узнал ли он по голосу того, кто в ночь на 13-е вызывал его по телефону, он с убеждением ответил «нет» и прибавил еще некоторые подробности: например, назвал сумму, которую репортер получил в кассе, час, когда он его видел в последний раз, и указал на странный вид Коша во время последнего разговора. Но все его показания имели только второстепенное значение. Прислуга Коша рассказала все, что знала, о привычках своего бывшего хозяина; не пропуская ни малейшей подробности, она сообщила, как нашла запачканную кровью рубашку, разорванную манжетку и золотую запонку с бирюзой. Все это ей показалось подозрительным, и, если бы не скромность, требующая, чтобы прислуга не вмешивалась в дела господ, она поделилась бы своими догадками с правосудием гораздо раньше, чем ее стали допрашивать.
После нее допросили мальчика, служащего в редакции, ювелира, у которого были куплены запонки, и почтальона, три или четыре раза носившего Кошу письма, адресованные в № 22, но все эти свидетели не внесли ничего нового и интересного. Доктор, судебный эксперт, сделал доклад, пересыпанный учеными терминами, цифрами и вычислениями, из коих в конце концов можно было сделать вывод, что причиной смерти был удар, нанесенный ножом, который, задев грудную кость, разорвал околоушную железу, рассек вкось сверху вниз и спереди назад сонную артерию и остановился у ключицы.
Оставался еще один свидетель — часовщик; он был призван, чтобы осмотреть часы, которые были найдены опрокинутыми на камине в комнате, где было совершено преступление.
Его почти никто не слушал, кроме Коша, не пропустившего ни одного слова из его краткого и точного показания:
— Часы, данные мне для освидетельствования, очень старинного образца, но, несмотря на это, имеют прекрасный ход и находятся в отличном состоянии; скажу даже, что таких солидных часов теперь в продаже не найти. Стрелки стояли на 20 минутах первого, так как подобные часы заводятся раз в неделю, а эти имели еще завод на 48 часов, то я заключаю из этого, что они остановились единственно вследствие того, что их опрокинули, и маятник, лежа на боку, не мог больше двигаться. Совершенно достаточно было их поставить и слегка подтолкнуть, чтобы они опять пошли. Из всего сказанного я вывожу, что час, указанный стрелками, и есть именно тот, когда часы были опрокинуты.